Я и забыла про эту фотографию. Ей более четверти века. Планерка в газете «Время»
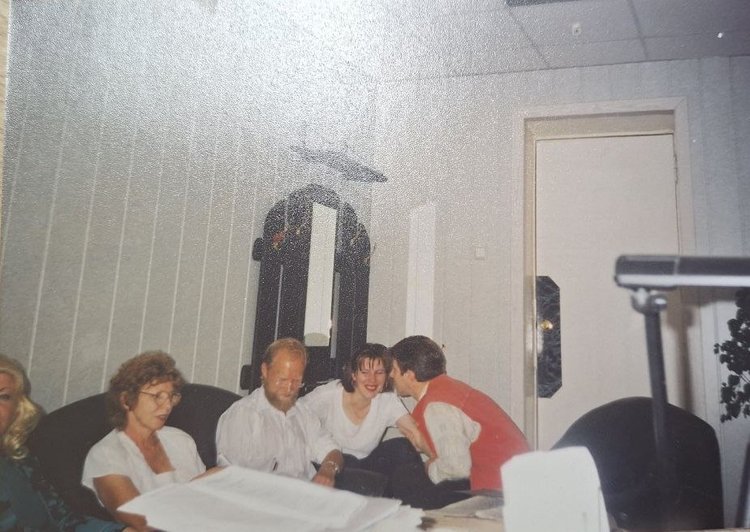
Слева направо: половинка ответственного секретаря Людмилы Григорьевны Суховой, заведующая отделом писем Татьяна Александровна Фролова, золотое перо Владимир Семенович Лобанов и два малолетних балбеса – я и фотокорреспондент Алексей Стадницкий.
Хорошее было время. Лучшее. О Фроловой и Лобанове хочется рассказать. Они того, поверьте, стоят. Сегодня – о Татьяне Александровне, Царствие ей Небесное!
Вопреки ожиданиям первые строчки дались легко
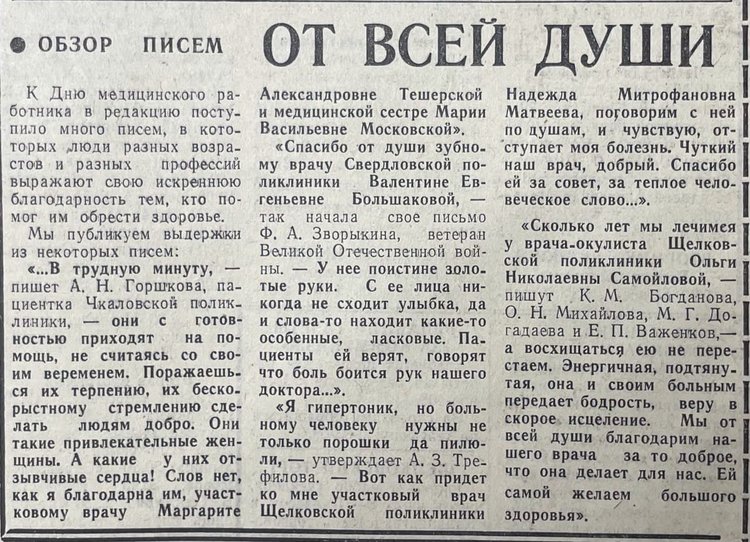
Она уже больше года работала в редакции и успела наслушаться рассказов коллег о «страхе перед чистым листом бумаги». Страха не было, хотя она уже знала, что прикасается к тайне. И совсем скоро Татьяна эту тайну раскроет и навсегда уяснит, как наполнять смыслом бумагу.
«Старый московский двор. Трое мальчишек усердно дымят папиросами. Спешат проявить свою независимость. Ведь они только что окончили десятый класс. Это Димка, Алька и Юрка – герои нового фильма «Мой младший брат». Здание старого нарсуда (здесь тогда нашла приют редакция районки), несколько маленьких комнаток, намертво пропахших сортиром, обшарпанный колченогий стол. За ним – юное создание двадцати с малюсеньким хвостиком лет, светлые мягкие волосы, фигурка – статуэтка… Редакционная любимица корректор Танечка Соловьева пишет первую в своей жизни заметку. За окном – сентябрь 1962 года.
За неделю до таинства редактор Соколова по-партийному четко сформулировала задачу: съездить в Чкаловский дом офицеров, посмотреть новый художественный фильм режиссера Александра Зархи «Мой младший брат», после просмотра послушать выступление творческой группы, письменно отчитаться.
С заданием Татьяна справилась блестяще. Удивительно, но через сорок с лишним лет, в апреле 2006-го, перелистывая подшивки 60-х годов, я без труда узнала динамичный стиль Татьяна Александровны Фроловой. Женщины, до последних своих дней не растерявшей очарования той далекой Танечки с девичьей фамилией Соловьева. Журналиста, ставшего эпохой для нас, газетчиков, и, конечно, для нескольких поколений читателей районки.
В редакцию Таню за руку привел отец
Александр Васильевич отдал ее под крыло своего друга Василия Шаховца, корреспондента газеты «За коммунизм». Татьяна после десятилетки успела поработать в заводской лаборатории, но будучи от природы лириком, а не физиком, в лаборатории тосковала. Папа, интеллектуал и книгочей, любимую девочку понял. Ему и Василию Шаховцу мы обязаны тем, что без трех месяцев 45 лет Татьяна Александровна Фролова в качестве штатного литсотрудника районки радовала читателей своим умным и добрым творчеством.
Чем хороший журналист отличается от плохого? Тем, что вечно собой недоволен. Да еще тем, пожалуй, что работает он всегда, потому что осмысливает тему, размышляет над ней, ищет ход, заголовок, слово и под утренним душем, и по дороге в редакцию, и по пути из нее, и под ворчание телевизора, и под рычание голодного мужа. Татьяна Александровна «искала ход» даже тогда, когда рука уже была набита, стиль отточен, признание коллег и любовь читателей незыблемы. Ей говорили: «Татьяна Александровна, вот этот ваш материал… ну, просто здорово!» Она в ответ: «Могло бы быть и лучше». Не додумала ход по дороге в редакцию…

В 1968 году родился сын Костик
Через три месяца домой к Татьяне Александровне пришел тогдашний редактор районки Куракин. «Таня, выходи на работу». «Ни за что не выйду. Ребенок маленький». «Танечка, ну я тебя очень прошу. Вот посмотри, как без тебя девчонки накуролесили». И жестом трагика достал из кармана очередной номер газеты. На первой полосе аршинными буквами издевался над русским языком заголовок: «КорОбли полетели в космос». И преданная районке и русскому языку Таня вышла на работу. С внуком осталась сидеть бабушка, Танина мама – Евдокия Николаевна.
Главным увлечением Татьяны Александровны всегда были литература и история. Ее папа собрал прекрасную библиотеку, много читал, привил эту свою страсть и дочери. Мама – учитель истории – собирала свою библиотеку и тоже немало поспособствовала Таниному образованию. Как-то Татьяна Александровна вернулась с очередного интервью со своей давней знакомой, известной поэтессой Новеллой Матвеевой. Она любила беседовать с этой мудрой женщиной. Вернулась и сказала: «У меня, как у Новеллы, два высших образования – мамино и папино».
Ее путь в журналистике
Он, особенно поначалу, был тернист, как у всякого творчески одаренного человека. К примеру, готовясь к интервью, она долго настраивалась, поскольку от природы была нерешительна. Однако быстро со своими комплексами разделалась. Ей совсем недолго пришлось работать на авторитет. Очень скоро авторитет стал работать на нее. От интервью с ней не отказывались: знали, что Фролова – это знак качества. Ну, а кроме того, Татьяна Александровна умела разговорить и немого. Но это уже скорее не профессиональное, а человеческое ее качество. Многие герои ее публикаций навеки становились ее друзьями.
Коллеги Татьяны Александровны помнили Руфину Ивановну. Эта пожилая женщина попала в редакцию почти случайно. Она зашла к Татьяне Александровне, зная ее только по статьям в газете. Зашла, чтобы поделиться своей нелегкой судьбой, при этом вряд ли рассчитывая на какую-то конкретную помощь. Просто статьи Фроловой были настолько светлы, что только таким людям хочется рассказать о своем горе.
Дочь Руфины Ивановны уехала в Сибирь. Там при родах умерла. Отец мальчика погиб незадолго до этого трагического события. Из Сибири Руфине Ивановне привезли цинковый гроб с телом дочери и живого, но как выяснилось совсем скоро, неизлечимо больного внука. Очерк Татьяны Александровны начинался так: «Всю ночь она пилила крышку гроба. Она хотела удостовериться, что хоронит свою дочь, чтобы, убедившись, принять и полюбить внука».
Внука Руфина Ивановна назвала Димой. Мальчик страдал тяжелой формой детского церебрального паралича. Не мог ходить, передвигался на коляске, да и то с помощью обожавшей его бабушки. Он стал для нее светом в окошке.
Ко времени рождения внука Руфине Ивановне было уже под 60. Небогатую пенсию она тратила исключительно на Диму. Ездила куда-то на мясокомбинат покупать дешевые косточки: мальчику нужен мясной бульон. Не хотела мириться с его болезнью. Возила к медицинским светилам, выкраивала из жалкой пенсии деньги на поездки на юг: надеялась, что солнце и море облегчат страдания мальчика. Да и ее тоже.
Руфина Ивановна познакомилась с Татьяной Александровной, когда Дима уже учился в школе и когда у самой самоотверженной женщины начались проблемы со здоровьем. Сил и денег на содержание и лечение внука почти не было. Руфина Ивановна боялась умереть: кому ее Димочка тогда будет нужен?
Что могла сделать в этой ситуации журналист Фролова? Написать статью. Не более. Но написать ее так, чтобы дрогнули и мраморные сердца. Дрогнули. Очерк Татьяны Александровны имел необыкновенный резонанс. Руфине Ивановне понесли деньги, продукты, директор птицефабрики подарил ей холодильник.
И потом еще не раз Татьяна Александровна возвращалась в статьях к этой семье и ее проблемам, пером заставляя читателей проявлять лучшие человеческие качества и помогать тем, кому плохо. Конечно, Татьяна Александровна подружилась и с бабушкой, и с внуком. Часто, просто так, чтобы подбодрить, приезжала к ним в Лосино-Петровский.
Когда Руфины Ивановны не стало, Диму взяли к себе родственники. Точку в этой истории Татьяна Александровна поставила лишь тогда, когда убедилась, что Дима – у родных, а не в доме для инвалидов.

Ее любимым редактором был Шостаковский
Нет, не так. Любила она всех, вот только в памяти остались самые яркие. Например, Шостаковский. Он прослужил в редакции всего два года, но каких! Золотых. Сам писал (Татьяна Александровна запомнила его репортаж с кожевенного завода, названный «Русская ушанка»), сам макетировал, т.е. исполнял обязанности ответственного секретаря, и даже сам верстал, т.е. физически помещал статьи в матрицы будущих газетных полос.
В редакции при нем воцарилась атмосфера творчества, скорее всего, потому, что он сам был творческой личностью, а не партийным функционером, как большинство тогдашних редакторов, чему, впрочем, не стоит удивляться: в то время районка являлась печатным органом Щелковского горкома КПСС и иже с ним – районного и городского Совета депутатов трудящихся.
Буквально в каждом Шостаковский видел что-то хорошее, умел это хорошее зацепить за хвост и вытащить на свет божий. В редакции постоянно околачивались не вполне трезвые и адекватные граждане, при этом потом все они оказывались порядочными людьми. Это в России случается довольно часто.
Когда Татьяна Александровна ушла на заслуженный отдых, ее уход из районки был сразу замечен читателями. Нам звонили и спрашивали, когда же снова в газете появятся статьи Фроловой, по-журналистки четкие и информативные, по-человечески мягкие и светлые. Мы не знали, что отвечать.
Она сказала: «Устала». Имела право: все-таки 45 лет в газете. Но не прошло и полугода – и она вернулась. «В полную силу работать, конечно, уже не смогу. Но и без газеты тяжело, буду писать потихоньку», – сказала она тогда. У всех нас, сотрудников районки, от радости сжалось сердце.
От нас и читателей она уходила целый год

После страшного диагноза Татьяна Александровна, хрупкая и нежная, не сломалась. Не плакала и не жаловалась. Приходила в редакцию и писала тексты, которые ждали ее читатели. Когда болезнь уже туго стянула удавку на ее тонкой шее, купила компьютер. И работала дома. Писала на любимую тему – о людях хороших и нужных, таких как сама.
Она готовила нас всех к своему уходу, чтобы горе не накрыло нас внезапно, свинцовой плитой. Поэтому в день ее смерти и после мы могли дышать, хотя слезы душили, а сердце отказывалось принять утрату.
Последний ее текст был опубликован в газете 22 апреля 2006 года, накануне 75-летнего ее, газеты, юбилея. Назывался он «Мы дети твои, районка». Татьяна Александровна, старейшая из сотрудников, вспоминала ласково и толково коллег, с которыми в разное время сводила ее судьба. А мы осиротели, нам остались только воспоминания. О чудной, доброй, талантливой Татьяне Александровне Фроловой.


